Владимир КосаревНемного предыстории 

Если вспоминать лишь политически значимые события, то надо
отметить, что оба моих деда были жертвами сталинских репрессий. Мой дед
по отцовской линии, Андрей Александрович Косарев, в середине 20-х годов занимал должность Главного
бухгалтера Вологодского госбанка. Большая семья жила в своем
двухэтажном доме, дед после работы приходил домой обедать, а потом
возвращался снова в банк чтобы разобраться с теми делами, которые днем
ему не давали сделать его многочисленные подчиненные и посетители. В
конце концов во время кампании по борьбе с вредителями его заместитель
написал донос о том, что Косарев по вечерам неизвестно чем занимается.
Когда деда арестовали, отец пошел в НКВД выяснять, в чем его обвиняют.
Ему там сказали так: "Ты что хочешь тоже здесь остаться?", видимо план
по "вредителям" был у них еще недовыполнен.
Через год он был освобожден с формулировкой "за халатное отношение к
работе". Аналогичная история произошла тогда и с отцом молодого тогда физтеховского теоретика Л.Д.Ландау, арестованного и осужденного на 10
лет за "вредительство в нефтяной промышленности", а также другой
фихтеховцем Д.А.Рожанским и многими другими. А.И. Солженицын объясняет
этот необычный для того времени факт освобождения тем, что Сталин решил
сохранить остатки старой технической интеллигенции для нужд
индустриализации страны. Также, как и Д.А.Рожанский после годичного
заключения он прожил всего 5 лет, поскольку здоровье оказалось сильно
подорванным. За этот год безотцовщины семья была вынуждена продать дом
и переехать в Ленинград, где жил в это время старший брат отца Николай,
учившийся у эстонского мастера краснодеревщика. Он занимал тогда одну
комнату в квартире своего учителя на Петрозаводской улице напротив
знаменитых бань. Туда-то и переехала из Вологды вся семья. 
Другой мой дед, Аристарх Лаврентьевич Жохин также сделал свою
карьеру на своей честности и трудолюбии. Начал он ее, работая
мальчиком-рассыльным в лавке. Затем хозяин стал ему доверять все
больше, в конце концов взяв его в долю. К 1917 г. мой дед имел уже свое
дело и несколько доходных домов в Ярославле. Во время ярославлавского
мятежа было много мародерства и с обеих сторон, а после его подавления
красными всех мужчин собрали на площади и подвергли децимации - каждого
десятого расстреляли. Мой дед и дядя там присутствовали, но им крупно
повезло. Во время НЭПа дед опять успел развернуться, но после прихода
Сталина всех предпринимателей обложили непосильным налогом, а затем
арестовали, конфисковали имущество и отправили в Сибирь. Дед провел там
несколько лет, но будучи привычным к крестьянскому труду не
нищенствовал, как многие, а батрачил и неплохо зарабатывал. В
результате о Сибири у него остались совсем
неплохие воспоминания.
Моя мать по имени Валентина имела потом большие проблемы как
дочь лишенца гражданских прав, да с отчеством, которое большинство
произносило как "Аристраховна". Поэтому она начала представляться как
Александровна, окончив экономический колледж в Ярославле. Затем
на практику она была отправлена в Вологодский госбанк, где и вошла в семью
моего отца. Отец же, окончив ЛЭТИ, стал радиоинженером и начал работать в
оборонной промышленности в КБ завода "Двигатель" (бывший завод
Леснера), производившего морские мины и торпеды. Хотя еще до начала
войны было известно, и о том, что предполагаемое оружие, которое может
быть противопоставлено нашему флоту это магнитные мины и акустические
торпеды с магнитным взрывателем, самонаводящиеся по шуму винтов, к
моменту ее начало у нас, в отличие от немцев, еще не было ни мин, ни
самонаводящихся торпед, ни надежной защиты от них: все эти работы еще
только разворачивались. Секрет немецкой акустической торпеды удалось
узнать лишь после того, как на Балтике была потоплена одна из
германских субмарин. Ее команда спаслась, но попала в плен, а лодку
вскоре удалось поднять. Командир немецкой подлодки утверждал, что
торпеды взорвутся, если их начать извлекать из торпедных аппаратов, но
наши специалисты их извлекли и вскрыли. К счастью на них тогда не
оказалось ловушек, которые могли бы вызвать взрыв при попадании света
на установленный внутри фотоэлемент. Такие ловушки немцы стали ставить
слишком поздно. Главный их секрет уже был обнаружен, и оказался
снаружи: голова торпеды оказалась обрезанной, как консервная банка.
Отсутствие обтекателя уменьшало, конечно, ее скорость, но впереди
движущейся торпеды образовывалась подушка из стоячей воды. В ней-то и
стояли микрофоны, в которые не попадал, таким образом, шум от
обтекающих струй. В довоенных отечественных разработках этот шум
полностью заглушал “полезный” сигнал.
По соглашению, подписанному после начала войны с союзниками,
наша сторона должна была информировать их обо всех добытых нами
сведениях об оружии противника. Представителей союзных держав собрали в
блокадном городе в соборе Пера и Павла в Петропавловской крепости, куда
поместили немецкие торпеды. Сообщение об их устройстве сделал один из
наших инженеров, хорошо владевший английским языком. Можно сказать, что
благодаря этим торпедам я и появился на свет. Мать с моей старшей
сестрой едва успела выбраться из блокируемого города буквально
последним прошедшим эшелоном, а отец остался на оборонном предприятии.
В условиях постоянного сокращения выдаваемого по карточкам пайка
многие его коллеги не выдерживали, получали месячную норму, съедали
все, а затем ложились умирать. Отец также дошел до крайней степени
истощения так, что не мог уже самостоятельно ходить. Бабушка посадила
его на детские саночки и отвезла в профилакторий, где таких доходяг
как-то поддерживали. Дальше семью спасла смерть на фронте под
Тихвином старшего брата отца Николая: семьям погибших военных на Новый
Год приносили продукты. Дальше отцу помог наш новый родственник Георгий
Романович Шапиро, химик по образованию, работавший в пищевой
промышленности. С его помощью отец устроился вставлять разбитые стекла
на хлебозаводе, а затем и на шоколадной фабрике. Там можно было есть
сколько угодно, но за вынос продуктов грозил расстрел. Весной 1942 года
было принято решение переправить немецкие торпеды вместе с опытными
образцами наших, а также необходимым оборудованием и оставшимися в
живых после первой блокадной зимы на барже через Ладогу на Большую
землю. Отец был в числе сопровождавших их специалистов. Когда в порт
Борисовой Гривы пришла баржа с Большой земли, матросы достали консервы
тушенки, мясо они съедали, а банки с жиром и бульоном выбрасывали. Все
голодные "специалисты" тут же на них накидывались и доедали. После
прихода на Большую землю у многих начался понос. Когда все и всех
перегрузили в два товарных вагона без каких либо удобств, отцу пришлось
привязаться к открытой двери вагона и так и ехать, не зная выживет он
или нет. Моей и его судьбе было угодно, чтобы он выжил и благополучно
прибыл в Махачкалу на единственное наше море, где не было тогда боевых
действий и где можно было более или менее спокойно проводить испытания.
У германских торпед были обезврежены магнитные взрыватели. Вместо этого
туда установили лампочки, позволяющие следить в темноте за движением
торпеды под водой. Испытания показали очень высокую эффективность
работы германского оружия: торпеды шли прямо под винты идущего судна.
Поскольку взрыватели на них не работали, то торпеда проскакивала под
винтами, а затем разворачивалась и снова шла обратно. Посмотрев на
работу немецких торпед, наши пробовать уже не стали. Вместо этого
начали разрабатывать меры противодействия. Помимо размагничивания
теперь наши суда стали снабжаться еще и гидроакустическими установками.
Как только дежурные гидроакустики слышали характерный шум винтов
немецкой торпеды, они давали команду: “Стоп машина!”, и корабль ложился
в дрейф, продолжая двигаться по инерции, до тех пор, пока у торпеды не
заканчивался запас электроэнергии.
Однако наладить производство своих акустических торпед СССР
удалось лишь через 6 лет после окончания войны. В зоне советской
оккупации оказался завод, производивший эти торпеды, там же находилась
и вся документация по ним и специалисты-разработчики. Поэтому было
принято решение полностью скопировать немецкую разработку, используя
при этом нашу элементную базу. После окончания войны из Германии в
Ленинград был вывезено не только все оборудование завода, но и все
работавшие на нем специалисты. Их поселили в одном и том же доме на
Кузнецовской улице, где и наша семья получила квартиру. Дом был
построен еще до войны, во время блокады он, к счастью, почти не
пострадал. Немецких специалистов поселили в соседнем подъезде. Вечерами
они играли в парке Победы в итальянскую лапту “Faustballspiel”, где в
отличие от английского гандбола нужно бить по мячу кулаком, а во дворе
мы иногда играли с их детьми. Для наших их игрушки были тогда чем-то
вроде инопланетных штучек. Каждое утро за ними приходил автобус, а отец
добирался до завода, находившегося неподалеку от “Авроры”, на трамвае,
ходившем по Московскому проспекту, называвшемуся тогда проспектом
Сталина. Ближайшая от нас остановка была на углу с Благодатной улицей,
где трамвай делал тогда кольцо, и идти туда надо было минут двадцать.
Но людям, пережившим войну и блокаду все это казалось не самым трудным,
тем более, что город начал быстро строиться, и изменения в лучшую
сторону происходили каждый год.


Во время испытаний на Черном море в районе Феодосии была
потеряна одна торпеда, которая попала в территориальные воды Турции.
Дело могло кончиться ГУЛАГом, но турки, выловив ее, не вскрывая,
передали представителям ВМФ СССР. Поэтому вся эта история окончилась
достаточно хорошо, и целой группе ведущих инженеров этого проекта была
присуждена Сталинская премия как раз перед тем, как я пошел в школу.
Надо сказать, что как творческая личность я сформироваться не столько
под влиянием отца, сколько под влиянием моего дяди Георгия Романовича Шапиро,
появившегося в нашей семье перед самой войной в связи с рождением моего
двоюродного брата. Регистрироваться его родители не стали, не зная, как
будут разворачиваться события в условиях войны с немцами, повально
истреблявшими евреев. Во время блокады эвакуировали лишь военных
специалистов, женщин и детей, поэтому через три года войны и блокады у
него родился еще один ребенок, но уже от другой женщины. Поэтому в
нашей семье его за это определенно осуждали, но он, как мог, старался
исполнить свой отцовский долг, встречаясь с сыном и помогая его матери.
При этом он успевал обращать внимание и на меня. Увидев у меня интерес
к морю и кораблям, он подарил мне редкую по тем временам книгу "Юный
кораблестроитель" с дарственной надписью "Будущему строителю кораблей",
которая долгое время была моей настольной книгой вплоть до увлечения
радиолюбительством. На семейных праздниках, где разговоры не выходили
обычно за пределы житейских проблем, он единственный поднимал темы
разговоров о джазе, американских трофейных фильмах и гениальности наших
вождей Ленина и Сталина. Когда он узнал, что любовь к кораблям у меня
трансформировалась в увлечение парусным спортом, а сам я стал
радиолюбителем, а затем и студентом физфака, то очень порекомендовал
мне прочитать только что вышедшую тогда книгу Даниила Гранина "Иду на грозу".
Надо сказать, что в школьные годы
я был заводилой различных проектов. Сызранская улица, в которую упиралась
тогда Кузнецовская, была окраиной города. На месте нынешнего СКК Петербургский
были самопальные огороды и скотные дворы. Вечером по той части Сызранской улицы,
которая стала теперь проспектом Гагарина, проходило стадо коров, и мы с мамой,
когда мне было лет 5, ходили смотреть: какого цвета первая корова, такой должна
была быть по народным приметам и погода завтра. Когда мне было лет 10, я
предложил своим школьным приятелям сделать свой, как теперь говорят, офис, а
тогда называли это "штаб", наподобие тимуровского. Мы нашли подходящее место для
землянки, яму с энтузиазмом отрыли, но дальше началась поздняя осень с
непролазной грязью, и родители запретили нам туда ходить. Зимой мы ходили туда
на лыжах и проводили на месте какие-то совещания и "фуршеты", закусывая
прихваченными из дома продуктами. Весной же яма оказалась до краев залитой
талыми водами, и нам пришлось от этого проекта отказаться.
Другим был
проект миниподлодки на двух человек, приводимой в движение винтом, соединенным с
велосипедными педалями. Наиболее проработанным узлом была откидная рубка-люк,
сделанная из оцинкованного ведра с прорезанным в нем иллюминатором. В ней должна
была помещаться голова капитана, ноги которого должны были стоять на педалях
вертикальных рулей, а руки - на штурвале горизонтального руля. Роль капитана в
моем первоначальном проекте естественно отводилась его автору, а роль трюмного
негра я предлагал своему школьному приятелю Виталию П., которому в моем проекте
почему-то не все понравилось. Тогда-то, по-видимому, мне и пришлось впервые
стать демократом и либералом: второй проект я сделал уже симметричным, оба мы
должны были поочередно крутить педали, и лодка могла с равным успехом двигаться,
как вперед, так и назад. Строительство должно было начаться на даче Виталия под Сосново
у Раздолинского озера, из которого по системе озер и речушек можно было попасть
на Вуоксу и далее в Ладогу. Однако волею судьбы на даче Виталия, где после войны его отчим, полковник милиции, работавший тогда
в системе лагерей ГУЛАГа, получил, как я узнал, как ценный кадр целый гектар земли,
мне довелось побывать лишь недавно. Тем не менее тогда я привел его и другого приятеля, Генку Румянцева, в
яхт-клуб ДОСААФ, куда мою сестру безуспешно
пытался зазвать большой спортсмен, мастер спорта и женский угодник и
мастер-обольститель, Борис Герасимович Лалыко, потерявший ногу во время финской кампании 1939 г. В
яхт-клубе мы прошли своеобразную школу
жизни и парусного спорта, получив к концу спортивной карьеры права рулевого первого класса и первый спортивный разряд,
неоднократно занимая первое-второе место в городе.
Памятным оказался также и инцидент, произошедший 12 апреля 1992 перед нашими выпускными экзаменами в школе. Насколько
помню, именно я подал одноклассникам идею о том, что этот день имеет большее значение для общечеловеческой истории, чем 7 ноября или 1 мая, и должен быть нерабочим.
Поэтому мы решили отметить его явочным порядком, всем классом уйдя с уроков. Помню, что мы пешком дошли до Невского и пошли в кино. После сеанса некоторые вернулись в
школу на последний урок, а мы праздновали до конца, за что и поплатились: именно нас то и вызвали в школьный Комитет Комсомола, где нам задавали довольно дурацкие вопросы о
том, что же мы хотели продемонстрировать. Я старался, как мог объяснить им свою
принципиальную гражданскую позицию, но "строгача" нам все-таки влепили.
"Мои Университеты" 
Однако окончательно я сформировался как личность именно на
физфаке ЛГУ, куда я попал довольно случайно, сделав перед этим казалось
бы непростительную глупость, согласившись перейти из обычной
десятилетки, которая была в соседнем квартале в одиннадцатилетку с
"производственным обучением", находившуюся в получасе езды на
троллейбусе. Мне казалось тогда, что начав зарабатывать самостоятельно,
я действительно буду, как нас уверяли, более самостоятельным. Жаль, что
я не догадался тогда посоветоваться с Георгием Романовичем, которого я,
надо сказать, всегда немного побаивался. На самом же деле это оказалось
непозволительной потерей лишнего года, дарованного нам до призыва в
армию, не давшего и реального заработка, а лишь учебно-символический.
Тем не менее именно в год нашего окончания школы физфак ЛГУ начал
практику "снятия сливок" с общего числа городских абитуриентов, т.е. проведения вступительных экзаменов в июле, на месяц раньше
других ВУЗов. Поскольку там была кафедра "Радиофизики", это определило
наше решение с моим школьным приятелем Володей Курзенковым попробовать
поступить на физфак.
Сразу же после экзаменов руководство физфака решило всех
вновь поступивших отправить на "трудовой семестр" в различные горячие
точки строительства коммунизма. Возможно это была плата, обещанная
партийному руководству города за разрешение "снять сливки". Так нам и объяснял ситуацию как две
капли воды похожий на "товарища Бывалова" в исполнении
И.Ильинского из фильма "Волга, Волга" директор какого-то совхоза под
Выборгом, куда мы попали на торфоразработки: "Вам дана возможность
учиться, значит вы обязаны заниматься (бесплатно) общественно-полезным
(принудительным) трудом". Мне тогда подумалось, что задача тех,
кто будет заниматься интеллектуальным трудом постараться сделать так,
чтобы подобных проблем не возникало.
Однако на тот момент я, хоть и сомневался в некоторых
вопросах, в целом был настроен, как и большинство моих сверстников, прокомунистически. Поэтому меня
сильно удивило, когда
мне рассказали, что один из наших новых сокурсников, Саша Дмитриев, еще
в школе спорил с учительницей истории. Он доказывал ей, что коммунизм
не возможен, поскольку противоречит природе человека. Я попробовал
выяснить его аргументы, но он благоразумно ушел от дискуссии, не став
со мной на эту спорить. Тогда я не знал, что то же самое прекрасно поняла моя
младшая двоюродная сестренка из Ярославля. Однажды она пришла из школы
очень взволнованная: "Нам сегодня сказали, что скоро у нас будет
коммунизм, не будет денег, все будут давать бесплатно! Придется
теперь очень рано вставать!" - "Зачем же это?" - "Ну зачем! Надо будет
бежать в магазин, пока все не расхватали!". В справедливости ее слов я
убедился, когда наш хоровой коллектив стал ездить за границу, где нас
хозяева кормили совершенно бесплатно. Все продукты при этом настолько быстро исчезали, что
наши радушные хозяева не могли этого не заметить.
На "торфах" все разбились по бригадам: самой боевой была
"Восьмерка", созданная по мотивам популярного тогда американского
ковбойского фильма "Великолепная семерка". Туда входили такие известные
личности, как Сергей Тюльпанов, Миши Нахмансон и Пимоненко, Гена
Рыжиков и Володя Шехтман, которому из-за неразделенной любви то ли к
Свете Бабич, вышедшей на третьем курсе замуж за Рыжикова, то ли к Нине
Плиткиной, вышедшей замуж за Пимоненко, пришлось брать на год
академотпуск. Они ходили на работу строем под строевые песни. Полной противоположностью им была наша свободолюбивая
(либерально-демократическая) бригада,
которую мы назвали "Трудовая мозоль". Трудовым энтузиазмом мы
тогда не отличались, но вот зато личности в ней оказались довольно яркие и интересные, в том числе, Андрей
Финкельштейн, нынешний директор Института Прикладной Астрономии, именем
которого названа небольшая планетка-астероид, которая находится где-то
недалеко от такой же планетки "Жорес Алферов". Андрей,
осуществивший вместе с Сергеем Смоленцевым впервые в
СССР программу строительства системы из трех, удаленных на тысячи
километров, радиотелескопов "Квазар", пришел на
физфак после трех курсов ЛИСИ и был постарше и более развит, чем остальные.
Поэтому он и стал там неформальным лидером. Другой колоритной личностью там был "испанец" (не помню его фамилию), окончивший испанскую школу и знавший наизусть песню Консуэлы Веласкес "Besame mucho", которую мне тоже очень хотелось спеть, но я ее смог выучить значительно позже. Другой популярной песней была тогда у нас песня со словами: "Так пусть же плачет пьяный сакс, рыдают трубы! Жизнь тогда хороша, когда нас любят!". Ее мы часто пели так: "Так пусть же плачет пьяный Стас", имея в виду еще одного участника этой торфяной эпопеи - Станислава Меркурьева, будущего ректора Университета, хотя на самом деле пьяным я его, пожалуй, никогда не видел. Он всегда был очень "правильным": не пил, не курил и не играл в карты.
  Пребывание "на торфах" было омрачено для меня травмой
коленного сустава, полученной, по-видимому, еще в школе, когда нас
посылали на принудработы по уборке мусора в новых кварталах, где
строились хрущевки. Оказалось, что в доме, где мы убирали мусор, еще не
были установлены марши лестниц, идущих в подвал, и я, шагнув туда в
полутьме, тут же полетел вниз и повредил мениск коленного сустава. Такие травмы
выводят из строя на две недели, когда нога не гнется, и на нее нельзя
ступать. Тогда я этого не знал, и когда "на торфах" я играл в футбол,
оборванный кусок мениска снова выскочил, и я на две недели "выпал в осадок". В
этой ситуации я выяснил, что на своего школьного приятеля Володю Курзенкова, я в
трудную минуту рассчитывать практически не могу. Вместо него моим новым
приятелем стал отзывчивый Паша Крепостнов, который не раз мне помогал и
впоследствии, например, в аналогичной ситуации эвакуировал меня с
Ястребиных скал, до тех пор, пока я на четвертом курсе не сделал
операцию по удалению поврежденного мениска. При этом Паша поддерживал хорошие отношения и с Курзенковым, считая его примерным комсомольцем. Я же его знал
несколько лучше. Его отец, очень похожий на актера Папанова, был
инженером легкой промышленности и говорил нам, что главная
проблема, стоящая перед нашей наукой, это автоматизация процесса
прошивки чашечек для женских бюстгальтеров. Поскольку
сегодня отечественные бюстгальтеры явно не оказались конкурентно способными, эту проблему ему решить должным образом
так и не удалось. До того, как они получили хрущевку в
Московском районе, семья жила в коммуналке на Васильевском
острове, и видимо на Володю василеостровская "дворовая команда"
оказывала гораздо большее влияние, чем его средне интеллигентная семья. То
же самое "влияние улицы" чувствовалось и в полублатных манерах известного
питерского политика Виктора Новоселова. В результате Володя так
особенно и не преуспел ни в науке, ни в семейной жизни, а когда узнал о
том, что я стал депутатом, совершенно явно начал завидовать, считая,
что я таким образом до конца жизни решил все свои бытовые проблемы. Помню, как
на свадьбе у Паши Крепостнова он довольно сильно напился и далеко не дружески на
меня нападал, а мне приходилось отбиваться, в том числе и при
помощи гитары, которой к тому времени я уже неплохо владел.
 Первые впечатления от учебы были очень яркими. Самое большое
впечатление на первом курсе производили лекции по высшей математике
Михаила Федоровича Широхова и Общей физике Никиты Алексеевича Толстого, сына
известного писателя. Многие прочли тогда "Детство Никиты", но меня
тогда больше интересовали преподававшиеся нам науки. Никита Алексеевич,
поражавший нас своими аристократическими манерами, как я потом понял,
был больше артистом, нежели большим физиком. Он всегда приходил на
лекции в парадном костюме с приколотым к лацкану значком лауреата
Сталинской премии, имея при себе прекрасно написанный и отработанный
конспект своих лекций. Во время лекции в Большой физической
аудитории он аристократически раскуривал сигарету, исписывал доску
красивыми формулами, а затем столь же красивой тростью, поднимал вторую доску,
опускавшую первую. По этому поводу ходил анекдот про девушку, сидевшую
в первых рядах и добросовестно записывавшую конспект в свою тетрадку.
"Никита Алексеевич" - вдруг сказала она, "Вы уже спустили, а я еще не
кончила". Другой анекдот рассказывал байку про то, как он вышел читать
очередную лекцию с незастегнутой ширинкой, после чего получил записку:
"Граф, у вас не в порядке галстук!". Посмотрев вниз, он понял, в чем
дело, и вышел в препараторскую, сказав: "Меня на минутку вызывают". Не
знаю, были ли эти истории в самом деле или они выдуманы, но как то раз
он поразил нас тем, что великолепные брюки его парадного костюма
оказались лопнувшими по шву, и когда он писал свои красивые формулы, оттуда выглядывали голубые кальсоны. Мы так и не придумали, какую записку
ему по этому поводу написать, но видимо поэтому я предпочитаю ходить в
баню, закаляться, и никогда не нашу никаких кальсон.
 
Лекции Широхова по высшей математике мне запомнились тем, что
вводили нас в тот сказочный мир дифференциального и интегрального исчисления, о
котором я много уже слышал, но еще не знал, что же это такое. Широхов
рисовал на доске абстрактные области, говоря, что при желании их можно
было бы рассматривать как произведения искусства. В ту пору, как раз после того,
как Н.С.Хрущева привели на выставку абстрактного искусства, эта тема
была популярна. Как я узнал потом, среди нас были и истинные его
ценители, некоторые из них, такие, как Жора Михайлов, за это даже
поплатились своей свободой (Ему дали срок, а картины приговорили к
уничтожению. Сегодня его гонители занимают высокое положение, и некоторые, как
он говорит, даже очень). В первую сессию нас ждали серьезные экзамены, и было
много разговоров о том, что многие этой сессии не переживут. Мой друг
Паша Крепостнов уговорил меня пойти сдавать математику досрочно.
Эксперимент прошел удачно: это была моя первая пятерка, положившая
начало всей сессии и тому, что на третьем курсе я попал в число самых умных или,
как у нас говорили, "корифеев науки", а затем и престижную группу теоретиков. Я понял, что гораздо лучше сдавать экзамены
досрочно, чем вместе со всеми, а тем более после всех. Когда Широхов стал
нашим замдекана, то вскоре в туалете физфака среди прочих многочисленных
надписей я прочитал следующую: «Планируется спецкурс -
"Теоретические основы онанизма". Читать будет Широхов».
  После Никиты Алексеевича лекции по Общей физике на втором
курсе продолжил профессор Григорий Соломонович Кватер, тоже бывший хорошим артистом, но это были,
конечно, день и ночь. У Кватера, по-видимому, вообще не было никакого конспекта, а
одна
сплошная импровизация, поэтому не осталось никакого приличного конспекта и у нас.
Следить за тем, что он читает, было очень трудно, и потому многие на них и не
ходили. К экзамену готовились по книгам. Другой вариант лектора являл
собой очень похожий на Георга Отса Всеволод Гордеевич Невзглядов, по слухам природный дворянин
и даже граф, читавший Теоретическую механику по своей же книге. Но
на его лекции публика тоже мало ходила, поскольку все можно было
прочесть в книге. Я понял, что хваленая советская система обучения
никуда не годится: необходимо размножить и раздать студентам
конспект преподавателя. На лекциях нужно излагать концепции, все
же выкладки должны разбираться самими студентами по размноженному
конспекту, но зачеты
надо принимать не раз в семестр, а по темам с предварительными
консультациями, где подготовленные студенты могли бы задать преподавателю
возникающие у них вопросы. Недавно я узнал, что один наш сокурсник Анатолий Правилов фактически так и делал, не ходя на лекции
и экономя время. В
конце семестра он брал конспект, написанный добросовестной студенткой
Л.Барановой, по нему готовился и сдавал досрочно. Так он умудрился
получать Ленинскую стипендию и "Красный диплом".
 
Переломным моментом, существенно изменившим мои
политические взгляды, был брежневский госпереворот 1964 г., когда в
результате заговора, был снят Хрущев. Как раз перед этим на истфаке был
организован вечер вопросов и ответов, где одним из вопросов из зала был
такой: "Почему у нас ничего не делается для искоренения практики культа
личности?" Ответ был такой "Как это не делается? У нас уже
столько сделано, что культу личности просто негде обосноваться!" А
через день или два Хрущева, совмещавшего посты первого секретаря ЦК
КПСС и Председателя совмина, снимают как раз за "совмещение двух
руководящих постов и возрождение практики культа личности"! Именно
тогда для меня стало очевидно, что не мы избираем своих руководителей.
Осознав, что мы живем в стране с жестким недемократическим режимом, я
ощущал себя таким же одиноким, словно Штирлиц, в глухом тылу страшного
фашистского государства. Именно тогда я начал интересоваться
политологией, регулярно слушать иностранное радио и обсуждать
происходившие события в кругу семьи и друзей. Первый
человек, к которому я тогда подошел, был Саша Дмитриев: я сказал ему,
что не понимал раньше его критики коммунистических идей, а сейчас я с
ним согласен. "Все прогнило! Все надо менять!" - ответил он. Однако,
что же нам делать было пока не очень понятно.

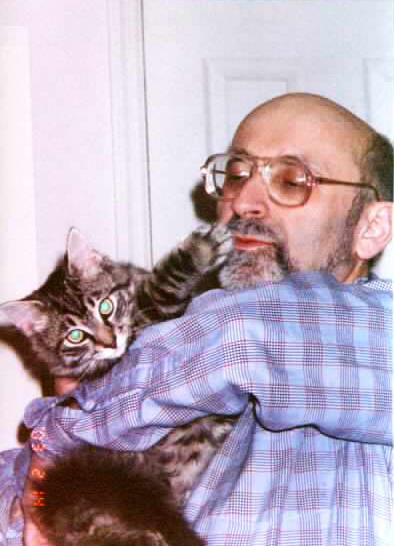
В семье у меня
поначалу были только два человека, с которыми я мог обсуждать эти
вопросы: зять (муж моей сестры) Владимир Клириков,
профессиональный философ и мой двоюродный брат Эрик, который был на три года меня старше и опытнее. К тому времени он уже попробовал
насаждаемой романтики, поработав монтажником высотником, научился пить, курить и
"бегать по
бабам". Поэтому тогда он раскрывал и развенчивал
многие идеалы нашей пропаганды. Но затем его его призвали в армию, предложив с тать курсантом. После этого наши позиции поменялись местами: я стал десидентствующим
интеллигентом, а он как и было положено советскому офицеру опорой и защитником существующего режима. Он оказался вовлеченным в игру наперегонки с американцами, в которую играла не только армия, но и вся
наша оборонка.
Он говорил, что ему приятно то, американский президент с нами считается, а я
отвечал, что он опасается нас как варваров с ядерными ракетами,
но это не означает, что он нас действительно уважает.
Большую часть жизни
мой брат провел в Средней Азии, работая на военной приемке. Хотя в письмах к нему я воздерживался от
политических дискуссий, в одном из них я все же описал краткое содержание доклада
С.И.Голода, аспиранта проф. И.С.Кона, по материалам его кандидатской диссертации, которую ему так и не разрешили защитить,
поскольку темой ее были "Современные тенденции сексуальной морали". Доклад
этот вызвал живой интерес у участников Физтеховской зимней школы, в том числе и у Ж.И.Алферова, который на следующий день начал свое выступление со ссылки на
явное преимущество гетеросексуальных отношений по сравнению с гомосексуальными.
Это письмо, как выяснилось, было изъято спецслужбой и до брата так и не дошло.
Это сказал ему потом местный особист за рюмкой водки. После этого я стал
в письмах к нему делать приписку: "Привет перлюстратору!"
Во времена горбачевской перестройки мой брат демобилизовался и перешел сначала на госприемку, а затем в качестве эксперта
аудитора начал часто ездить за границу. Когда он увидел, как там живут
люди, он был страшно поражен и сказал мне: "Что же ты, имея такие связи за рубежом,
живешь здесь, а не там?" Я спросил его, как же он там общается с людьми,
не имея достаточной языковой подготовки. Оказалось, что как человек
недюжинных способностей, он понимает языки интуитивно: "Примешь 100
грамм, и английский уже начинаешь понимать! Для немецкого нужно
побольше, а с финским - сколько не пил, так ничего и не понял!"
Надо сказать, что в
то время мало кто из сокурсников разделял мои новые взгляды.
В группе "умных" теоретиков, пожалуй, не было никого. С некоторыми я
горячо спорил, но после начала перестройки они почему-то первыми
"слиняли" за рубеж. Из числа физфаковских теоретиков только мой, то ли шурин, то
ли деверь Эдик
Кремер, который учился курса на два младше, в значительной мере разделял мои взгляды. Он
пытался даже дискутировать на эти темы с преподавателем истмата Тамарой Витальевной Холостовой,
известной независимостью своих взглядов, но это я узнал намного позже. Сам я
тоже любил ходить на
ее лекции и семинары, поскольку она вела их нестандартно и действительно зачастую высказывала
собственную точку зрения, но на экзамене она меня разочаровала: вместо
того, чтобы определить то, на сколько ее студенты усвоили основы ее
курса, она заглянула в журнал посещений семинаров и начала меня
спрашивать по темам, на которых я не присутствовал. Тамару Витальевну не раз
приглашали потом и в Физтех, но после того, как она сказала, что всякая
философия, в том числе и марксистско-ленинская, - это не наука наук, как
это было принято считать, а вообще не наука, поскольку она пользуется
нестрогими методами доказательств, например, доказательством по аналогии,
больше ее в Физтех уже не приглашали.
На четвертом или даже пятом курсе у нас неожиданно ввели новый предмет - Научный
коммунизм. Я счел это попыткой
еще раз вдолбить нам те "истины", которые я как раз и не считал научными. Поэтому ни на лекции, ни на семинары я принципиально не ходил, а к экзамену готовился
по книге
"ренегата" Каутскогого "Экономическое учение Карла Маркса". На экзамене же наш преподаватель П.Н.Хмылев ставил нас в тупик вопросом, который он освещал
на одном из семинаров: "Как представляли себе классики марксизма неизбежность перехода от капитализма к социализму и как надо
на этот вопрос отвечать сегодня?"
Поскольку многим пришлось из за этого сдавать экзамен повторно, мы выяснили, что
Энгельс представлял себе кризисы перепроизводства как все более углубляющиеся явления, выходом из чего могла бы быть лишь плановая экономика. Но проклятые капиталисты
тоже не дремали и научились
неплохо планировать сбыт своих товаров, и эту проблему решить.
Что же придумали наши идеологи, так и осталось для меня загадкой. Я попробовал задать этот вопрос на семинарах по
философии нашему преподавателю Борязу, но он сказал, что для ответа на этот вопрос надо повторить все то, о чем мы там говорили. А поскольку такие
вопросы у меня возникают, это говорит о том, что я плохо знаком с первоисточниками, и на кандидатском экзамене он мои знания обязательно и с пристрастием проверит.
Пришлось обращаться с своему зятю Володе Клирикову, который через свои
философские связи посоветовал Борязу не слишком зверствовать на этом
экзамене. Отвечал я не ему, поскольку пошел одним из первых, и получил
пятерку, несмотря на то, что за реферат, который взял и перепечатал у
Володи К., он поставил тройку, назвав его эклектичным. После меня этот
реферат перепечатывали и сдавали еще несколько ИПАН-овцев, в том числе
мой сокурсник Алик Гутман, получая
пятерки и четверки. 
Вскоре я узнал, что Андрей Финкельштейн не только вошел в
новое бюро ВЛКСМ нашего факультета, но и стал там главным идеологом.
Встретив его как-то, я спросил: правда ли это, и как этим можно
заниматься в наши дни? Он ответил, что именно в наши дни этим и надо
серьезно заниматься. Оказалось, что наше бюро ВЛКСМ, во главе которого
был Клейменов, пыталось осуществить на практике ленинский тезис о том,
что необходимо учиться "осуществлять Советскую власть". Члены
бюро регулярно ездили на целину, а Андрей был там ответственным за
"учет и контроль", вызывая своей деятельностью большое недовольство стройотрядовцев. Однако еще большее неудовольствие деятельность
нашего бюро ВЛКСМ и особенно попытки "осуществлять Советскую власть"
вызвала у партбюро Университета. В результате Клейменова вскоре сняли, а все
бюро разогнали.

В 1967 году незадолго до нашего окончания шла активная
подготовка к празднованию 50-летия Октябрьской революции. На улицах
устанавливали тумбы, стилизованные под старопетербужский стиль, на
которых расклеивали различные материалы революционной тематики, типа
копий выпусков газеты "Правда" 1917 г., выпускавшейся, как мы теперь
знаем на германские деньги. Вот эти-то тумбы и решил использовать для
расклеивания своих прокламаций другой наш сокурсник Виталий Хрущев. В
первый вечер ему удалось поработать плодотворно, но на другой его уже
ждали и сразу же взяли. С тех пор я его больше не встречал, хотя
говорят, что сидел он не в лагере, а в психушке, и после начала
перестройки благополучно от туда вышел.
 Тогда же примерно я был свидетелем аналогичной акции на
Ястребиных скалах, куда я регулярно ездил с университетской
альпсекцией. Тогда там был один из немногочисленных островков свободы.
Там собирались достаточно молодые и остроумные туристы, альпинисты и
скалолазы, которые любили вывешивать на видных местах огромные
транспаранты типа; "Берегите природу, мать вашу!" или распевали в
электричках "безыдейные песенки" с ерническим припевом, оканчивавшимся
словами "Мать твою КПСС!" Вот там-то кто-то и решил развесить свои
достаточно серьезные политические воззвания. Сам я их не видел, но
разговоры об этом слышал. Присутствовавший там активист нашей
университетской альпсекции Валера Рудаков, симпатичнейший и весьма разумный
физик-теоретик, ставший затем деканом физфака, говорил тогда, что из-за
таких вот чудаков на букву "м" могут выезды на скалы вообще
прикрыть, например, перенеся нижний край пограничной зоны за Кузнечное.

В конце четвертого курса у нас должны были пройти военные
сборы под Выборгом, а у меня появилась тогда первая возможность
участвовать международной "Балтийской парусной регате" в Таллине.
Морской клуб ДОСААФ, от которого должен был там выступать, дал мне
соответствующую бумагу, с которой я предстал перед заведующим военной
кафедрой. Он дал мне отсрочку на неделю, но с условием, что я прибуду к
приему присяги в воскресенье. Соревнования же кончились в субботу, но я,
как и подобает капитану, не мог бросить своего швертбота класса "Летучий голландец" на
произвол судьбы: его нужно было разобрать, погрузить на машину и с моим
матросом Сергеем Шапошниковым и школьным приятелем Генкой Румянцевым отправить домой. Поэтому я прибыл на
сборы лишь в понедельник. Командующий сборами полковник Чечин сначала
послал меня обратно в город, но затем разрешил принять присягу
индивидуально, пообещав за опоздание 5 суток гауптвахты. Оказалось, что
принятие присяги сводилось к подписанию соответствующей бумаги в
помещении, где стояло знамя военной части. Я надеялся, что и с
гауптвахтой дело как-то обойдется, тем более, что еще в школе я посещал
стрелковый кружок и неплохо стрелял как из пистолета, так и из автомата
Калашникова. Но полковник Чечин был, надо сказать, довольно крут. На одной из
первых линеек он предупредил нас о близости финской границы, рассказав
историю о том, как некий солдат сбежал из части, залез в товарняк и
доехал до Финляндии. Но финны по навязанному им договору о выдаче сдали
его нашим, а здесь - расстреляли как дезертира. Таких, как я оказалось
еще двое (Раф Нудельман опоздал по
семейным обстоятельствам, а Саша Богомаз, получив телеграмму о смерти
деда и не получив разрешения, уехал в город самовольно, надев
тренировочный костюм), и Чечин решил нас всех примерно наказать,
оставив одних из всего курса после сборов на местной губе. Говорят,
что по дороге домой он хвастался, что за наше содержание на губе
заплатил свои собственные деньги. 
Хотя все наши сокурсники нам очень сочувствовали, я
благодарен нашему полковнику Чечину и судьбе за эти краткие пятидневные
курсы для начинающего ЗэКа. Оказалось, что читать там ничего нельзя,
кроме Устава караульной службы: в этом занудном безделии и состоит
главное иезуитство наказания. Когда мы об этом узнали, то успели у еще
не уехавших наших ребят запастись кой-каким чтивом, распихав его что
под гимнастерки, а что за голенище сапог. Вторым удивительным
наказанием было то, что железные полки, служившие кроватями были
подняты как в плацкартном поезде и закрыты на замок. На ночь можно было
взять деревянный лежак, называемый "самолетом" и бушлат, чтобы
накрыться. Тем не менее первый день мы провели неплохо, вместе с нами
за "самоволку" посадили солдатика, Ваню Рындина, он там бывал уже не
впервой и показал, какие полки можно открыть, не снимая замка. Теперь
можно было и посидеть, и почитать, и поговорить, и кормежки нам
присылали с кухни вдоволь, но на второй или третий день начальником
караула гауптвахты был какой-то старшина-сверхсрочник или "кусок", как
звали их в армии, поскольку служили они за "кусок" (100-рублевую
зарплату). Первое, что он сделал, это проследил, чтобы на завтрак нам
давали лишь по ложке каши, остальное нам было "не положено" и отослано
обратно на кухню.

После завтрака он устроил "шмон": одному сказал сними левый
сапог, другому правый, третьему - подними гимнастерку. Поскольку везде
у нас с собой что-нибудь да было, то все это отбиралось, а
проштрафившийся отправлялся в одиночную камеру. Там мне ничего больше
не оставалось, как петь песни Высоцкого: "Не дают мне больше интересных
книжек..." Когда мы освободились, нам пришлось с большим трудом
разыскивать этого старшину, чтобы вернуть конфискованные им книги: он
явно хотел их себе зажать. Пришлось обращаться к начальству. Окончив
благополучно расчеты с военными мы сбегали в военторг и отпраздновали
вместе с Ваней Рындиным свое освобождение. На прощание мы оставили ему
свои телефоны, сказав: "Будешь в Питере, звони!" Привет от него мы
получили примерно через год, когда у нас дома часов в 5 утра раздался
звонок. Это была милиционер вместе с военным прошли в мою комнату и
начали интересоваться, где я прячу Рындина Ивана. Я решил, что он опять
в самоволке, но дело оказалось серьезнее. Во время обычной для того
времени работы солдат в колхозе они стянули и съели поросенка,
что расценивается как воровство, за что полагался штрафбат. Но прыткий
Ваня умудрился и оттуда сбежать, переломав велосипедом лапы охранявшей
их служебной собаке, и вот они его начали искать по всем адресам и
телефонам его записной книжки, отобранной при аресте. Через некоторое
время пришли уже днем, представившись сотрудниками КГБ. "Мы все про
вашу семью знаем" - сказал мне майор - "Если вы нам не поможете, у вас
будут проблемы!" Я понимал, что, если записная книжка находится у них,
то у Вани наших телефонов наверняка нет, мы ведь с тех пор ни разу не
общались. Поэтому я бодро сказал, что, если он у нас появится мы сразу
им позвоним. "Как же позвоните? При нем? Нет надо сбегать в магазин, а
позвонить нам из автомата!" - научил майор. Но, видимо, я уж слишком
быстро согласился, и они не поверили. Когда я вскоре уехал на скалы,
они снова появились у нас в квартире: днем топтуны торчали на лестнице,
а ночью сидели в засаде в квартире. Отец развлекал их журналами
"Крокодил", чего они наверное не должны были делать. Так состоялось мое
первое знакомство с КГБ. То же самое было тогда, как я узнал позже, и у Рафа, и
у Саши Богомаза.

Еще одним сторонником активных действий был другой наш
сокурсник Юра Мальцев. Не помню точно когда и при каких обстоятельствах
состоялся наш разговор "тэт на тэт", но помню, что пытался его от этого
отговаривать. Видимо я не смог его убедить, поскольку больше я его уже
ни разу нигде не встречал. Примерно так же мне советовала поступить и моя
теща, с которой я поначалу пытался вести политические дискуссии. "Если
ты так убежден, то иди и сгори!", но я при здравом разумении решил не
прислушиваться к советам моей тещи, а поступать, как и полагается в
таких случаях, наоборот. Поняв ту роль, которую играла КПСС, я
старался держаться
от нее подальше и никогда не пытался в нее вступать, тем более, что
после окончания Университета я не стал регистрироваться на месте работы
как член ВЛКСМ, поставив, таким образом, крест на своей политической а,
возможно, и научной карьере в годы брежневского “застоя”.
ИПАН и Физтех При Сталине я, наверно бы уж точно попал в ГУЛАГ,
но возможно именно в хрущевские времена в нашем Университете всем нам
был привит еретический дух вольнодумства или свободомыслия. Придя в
лабораторию низких температур Института полупроводников (ИПАН), я уже не мог временами удержаться от
обсуждения опасных тем, например, является ли марксизм-ленинизм наукой
или религией. Как-то обедая с двумя сотрудниками, я сказал им, что все
мы хорошо знаем, как трудно в науке шаг за шагом нащупывать истину,
поскольку природа всегда сложнее наших грубых моделей, которыми мы ее
пытаемся описать, а преподаватели «научного» якобы коммунизма, учат нас
так, как будто им все уже давно понятно и на много веков вперед
предопределено. Один из них начал со мной спорить, а другой, Митя
М. (ММ), сказал мне потом: «Я не религиозен, но ты же видишь, что С.
правоверный. Так зачем же ты с ним споришь?» Вскоре я понял, что в
нашей лаборатории есть всего три человека, с которыми можно говорить на
эти темы, но они держались особняком, видимо, сильно опасаясь стукачей,
которыми в советском обществе по слухам был как раз каждый третий.
Наверное,
по этой причине они не расширяли свой круг за это число,
по-видимому, опасаясь в том числе и меня. Один из них сегодня хорошо
известен как помощник М.Молоствова, а ныне -
сотрудник организации
«Гражданский контроль» Валерий Муждаба, а другой в 70-е годы
эмигрировал в США и с тех пор ни разу не приезжал обратно, видимо,
все еще опасаясь, что второй раз из нашей страны его могут не выпустить. Надо сказать, что в ИПАН я попал по рекомендации Льва Эммануиловича Гуревича, у которого я
делал дипломную работу. Вначале, еще на третьем курсе по инициативе того же Паши Крепостнова я начал работать у Моисея Наумовича Адамова, занимавшегося
квантовой химией.
По этой тематике у нас была опубликована общая работа, там же я впервые увидел Эраста Борисовича Глинера, с которым более тесно судьба свела меня
несколько позже, но вскоре я узнал о
факультативном курсе лекций по теории плазмы, которые Лев Эммануилович читал на кафедре оптики. Меня эта тема интересовала как передний край науки, лекции мне понравились, и
я попросил у него дать мне тему для работы и начал бывать у него дома, куда один за другим ходили многие всемирно известные ныне теоретики
такие, как Борис Шкловский и Артур Чернин.
В 19.00 Лев Эммануилович обычно прерывал наши занятия, чтобы послушать новости БиБиСи, но наши разговоры не выходили за рамки научной тематики. Лишь однажды я спросил его, не
кажется ли ему ситуация предвоенной, поскольку многие тогда предрекали близкую войну с Китаем, но Лев Эммануилович сказал, что не верит в это, поскольку
долгие годы
мы тратили огромные деньги на оборону. Я возразил: "Мы готовились к другой войне! В 1941 г. мы тоже оказались к ней не готовы!" Сегодня можно сказать, что Лев Эммануилович
оказался прав: войны с Китаем не произошло. Думаю, что Мао был для этого слишком стар, а новое поколение политиков раньше наших сделало правильную ставку на реформы. С Борей
Шкловским мы политических тем также не трогали, но его жена Марина была выпускницей истфака и,
как я выяснил в разговоре с ней, убежденной марксисткой. Когда в 1989 г.
Боря вместе Алексеем Эфросом собирались
на работу в США, я был удивлен, встретив их на жеребьевке садовых участков, разпределявшихся в Доме Ученых в Лесном. Я спросил Эфроса: зачем это им
надо, если они уезжают? "Мы ведь едем всего на три года!"
- ответил он. "Если вам там понравится, то будет очень трудно вернуться обратно в условия несравненно худшие!" - возразил я. Так оно и произошло,
и участок Эфроса до сих пор стоит
заросший бурьяном.

Уже после окончания физфака в 1968 г. я продолжал еще
довольно часто туда заходить. Это был год подавления "пражской весны",
когда многие коммунисты гласно или негласно рвали с КПСС, поэтому меня
сильно удивил прошедший слух о том, что оставшийся в аспирантуре Стас
Меркурьев написал заявление на прием в ряды КПСС. Встретив его в
кафетерии истфака, я спросил его, зачем он это делает: "по любви или
для карьеры". Стас ответил, что о его карьеризме распространяют "ложные
слухи разные там злые языки", но в последующие годы он сделал поистине
головокружительную карьеру, приведшую его в академики и в кабинет
ректора ЛГУ и, в конечном счете, к инфаркту, именно по партийной линии,
став сначала парторгом физфака, затем его деканом, заменив также
умершего от инфаркта Валеру Рудакова.
Одной же из причин моих появлений на факе было то, что
именно в это время я начал посещать хор
физического факультета нашего Университета, которым руководила тогда
Людмила (Мила) Созинова, работавшая затем администратором в Большом
Зале Филармонии. Первый концерт хора в Доме Ученых, куда я
попал тогда еще лишь в качестве слушателя, открывался «Песней о Ленине»
Андрея Петрова, дальше шли “Ave verum” Амадея Моцарта, “Adoramus te”
Джиованни Пьер Луиджи де Палестрина, а затем и другие произведения
эпохи Ренессанса. После концерта ответственная за мероприятие дама
спросила Милу, почему она выбрала «Песню о Ленине» именно Петрова? Та
ответила, что ей понравилась музыка Петрова. «А я думала потому, что он
стал депутатом Верховного Совета СССР!» - удивилась дама. Потом я
заметил, что всех проверяющих дам интересовали исключительно только
песни о Ленине, партии, Родине и труде, которые должны были обязательно
входить в репертуар хоровых коллективов.
Меня же тогда интересовало искусство пения само по себе, но
вскоре я
понял, что ни Мила, ни ее концертмейстеры – студенты хорового отделения
Консерватории не могут мне толком объяснить то, как же надо петь. Для
человека с физическим образованием все разговоры об «опоре» на
диафрагму и «фокусировке» звука были абсолютно антинаучны и нефизичны, а самое
главное было совершенно непонятно, что же они при этом имели в виду.
Поэтому я решил обратиться за помощью к известному коллекционеру
звукозаписей вокалистов Ю.Б.Перепелкину, к которому я ходил благодаря
наводке моих сокурсников на музыкальные среды, где прослушивались
записи знаменитых и не очень знаменитых вокалистов из его коллекции.
После некоторого
раздумья он по счастью направил меня к П.А.Клюшину, жившему тогда уже в
Доме ветеранов сцены на Петровском острове. Ему тогда было 86, а мне
25. Это был человек,
заставший еще ту эпоху, когда итальянцы ездили к нам на заработки: в
Петербурге в помещении Большого оперного театра на месте нынешней
Консерватории постоянно функционировала итальянская опера, а в
Консерваториях Москвы и Петербурга преподавали итальянские профессора.
У нас была тогда целая плеяда певцов, владевших школой итальянского
Бельканто. Среди них были Нежданова и Обухова - ученицы Мазетти,
Шаляпин учился петь у Дмитрия Усатова, который сам был учеником Эверарди.
Про Клюшина рассказывали, что он в молодости был
близок с примой итальянской оперы Медеей Мэй-Фигнер, которая открыла
ему
секреты бельканто. Лучшим его учеником был в то время Виктор Корбуков,
который пел на мой взгляд великолепно, и ему явно светила блестящая
певческая карьера. Послушав меня, Клюшин сказал, что у меня
баритональный бас. Поэтому, объяснив мне азы своей вокальной методики,
он порекомендовал мне взять для себя за образец манеру пения Шаляпина,
поэтому я перечитал тогда о нем все, что было возможно, и приобрел
вышедшую тогда антологию всех его записей. Клюшин брал за урок
тогда чисто символическую плату в один рубль. Я
более или менее регулярно ездил к нему на Петровский остров до тех пор,
пока не женился и не стал отцом. Теперь я говорю, что
продолжаю поддерживать интимную связь с итальянской вокальной школой,
установленную моим преподавателем, но тогда, к сожалению, я смог
вернуться к пению лишь лет через 10, когда в Физтехе, куда после
скандального самолетного дела слили ИПАН, появился свой собственный
хор.
Организатором и руководителем хора была Ольга Кучерова (Лебедева), у
которой я продолжил свои занятия вокалом. Впоследствии она говорила:
«Когда ты к нам пришел, то ничего не умел, кроме того, что пел, как
Шаляпин!»
Тогда я подумал, что это, наверное, не так уж мало, но потом узнал, что
Шаляпин сам учился всю жизнь: оказывается он все время проверял себя у
разных педагогов, и поэтому постоянно совершенствовался. После
гастролей хора в 1991 г. в штат Мен США, которые организовала мать
Кирилла Смирнова, наша руководитель, совершенно неожиданно для нас оказавшаяся
чистокровной еврейкой
по матери, осталась там работать регентом хора православной церкви в
Бруклине и вернулась в Питер лишь через 10 лет, чтобы похоронить свою
мать.
Она рассказала нам, что за время работы в потогонной системе
капитализма она довела до совершенства свою методику преподавания
вокала и сольфеджио и проходит полный «курс молодого бойца» со всеми
вновь пришедшими к ней в хор за 8 занятий. С нами она провела
мастер-класс из двух занятий, сказав мне примерно то же, что и до
отъезда в США. Но теперь у нее была методика, позволившая мне понять,
наконец, чего же она от меня хочет.

Помимо пения меня давно интересовала и игра на гитаре. Отец
играл когда-то в струнном оркестре на гитаре, мандолине, домбре и
балалайке, но кроме нескольких песенок научить меня ничему не смог.
Учиться гитарному аккомпанементу я начал у своих сокурсников во время
военных сборов, где было уже много ребят, освоивших аккомпанемент на
7-струнной гитаре. Прекрасно по моим меркам тогда играли и пели Вася Гусев, Володя Курзекнков и Володя Булавинов, но вскоре я понял, что мне нужна
школа более серьезная. Я решил пойти на университетские курсы
классической 6-струнной гитары. Оказалось, что в испанском строе все
основные аккорды представляют собой различные комбинации из трех
пальцев. Мне это помогло и так понравилось, что я влюбился в испанский
строй и классическую гитару. Тут познакомился с этюдами Джулиани,
Карулли, Каркасси и Сора, гитарного Бетховена. Так же, как и техника
пения, мое искусство гитариста год от года постепенно росло, а у моих
друзей, остановилось на дворовом уровне и постепенно сошло на нет.
Володя Курзенков, начавший курить в студенческие годы, умер от рака
горла, а Володя Булавинов, говорили, спился. Паша Крепостнов
рассказывал, что подходит как-то к нему какой-то очень подозрительный
тип, отдаленно похожий на Булавинова, и спрашивает: "Тебя не Паша
зовут? Не Крепостнов? А ты на физфаке не учился? Отлично! Дай три
рубля."
Летом 1969
г. научная жизнь в ИПАНе была надолго парализована нашумевшим тогда
"самолетным делом", многое в котором до сих пор осталось неясным,
поскольку сообщения в тогдашних газетах не давали достаточной для
понимания сути дела информации. Согласно обвинительному заключению,
арестованные при посадке в 12-местный самолет АН-2, летавший по
маршруту Ленинград-Приозерск, намеревались захватить самолет и лететь
на нем в Швецию. Можно, однако, определенно утверждать, что никто из
сотрудников ИПАНа не был причастен к какой бы-то ни было
противозаконной деятельности. Пострадали, тем не менее четыре
сотрудника, принимавших участие в работе кружка по изучению еврейского
языка и культуры. Трое из них уволены после долгих допросов в КГБ -
бывший заместитель директора ИПАНа, Монус Соминский, который, как
выяснилось, был казначеем более обширной группы, имевшей задачу
переправки людей в Израиль, и братья Самуил и Борис Старобинцы. Борис работал в нашей лаборатории, где я
начал работать теоретиком, а другим теоретиком был
- Лев Львович Коренблит. Он также был арестован и
осужден на 3 года за "недонесение" о подготовке захвата самолета для
эмиграции за границу. Его вина состояла в том, что он, пользуясь в том кружке всеобщим уважением как раби
(учитель), пытался отговорить своих товарищей,
пришедших к нему за советом, от этой авантюры, возможно подкинутой
провокатором, но не донес на них. Организаторы этой акции Э.С.Кузнецов
и М.Ю.Дымшиц были приговорены вначале к высшей мере, но после
многочисленных протестов и обращений к председателю Президиума
Верховного Совета СССР Н.В. Подгорному (в том числе письма
А.Д.Сахарова) высшая мера была заменена на 15 лет строгого режима.

После этого
на ИПАН нагрянула Обкомовская комиссия и на пост замдиректора был
назначен человек, видимо, со стороны КГБ, А.Н.Писаревский. Сыграло то
обстоятельство, что у него в ИПАНе было много друзей. Но он, говорят,
любил выпить и иногда напивался прямо у себя в кабинете, а потом ловил
кого-нибудь в коридоре и начинал разговоры в духе "ты меня понимаешь?".
В результате в Москве решили слить ИПАН,
представлявший по их мнению "гнездо сионизма" с более лояльным Физтехом,
где после этого инцидента также усилилась антисемитская кампания. В
частности к заместителю директора Н.В.Федоренко был вызван заведующий
теоретическим отделом Л.Э.Гуревич. В кабинете замдиректора
присутствовал еще какой-то незнакомый человек, по-видимому из КГБ.
Федоренко задал Гуревичу вопрос: «Почему в теоротделе так много
евреев?» Лев Эммануилович, который сам был сыном эмигранта меньшевика,
члена РСДРП и матери, происходившей из старообрядческой семьи, на
какое-то время задумался, а потом сказал, что это произошло
исторически. Федоренко этому ответу явно обрадовался и обратился к
незнакомцу: «Вот видите! Это произошло исторически!».
После слияния с Физтехом, нашу лабораторию сделали сектором лаборатории
академика Б.П.Захарчени, который начал
разнарядки по сокращению проводить за счет нас.
Соответственно был понижен в должности, а затем снят и с должности заведующего сектором С.С.Шалыт. Однажды мне сообщили, что мня вызывает сам Борис Петрович. Оказалось, дело было в том, что
я по плану должен был быть очередным докладчиком на проходивших раз в месяц философских семинарах. Борис Петрович предупредил меня, на семинаре может быть проверка. "В прошлый раз такая проверка
была, и меня потом на парткоме в ж-у вые-ли!" - с партийной прямотой поведал он мне - "Нужно, чтобы все было хорошо подготовлено и обеспечена явка!" Я
постарался заверить его в том, что тему из утвержденного парткомом списка рекомендованных тем
я уже выбрал, а людей из нашего сектора постараемся привести. В списке тем имелась лишь одна, имевшая от ношение к физике: ее-то я
тогда и выбрал. В списке литературы
к ней была книга Виталия Гинзбурга "О физике и астрофизике", посвященная проблемам физики и перспективам их решения, а также статья Дайсона о том, как выбирать новую тему исследований, если старые зашли
в тупик. Книга Гинзбурга оказалась очень интересной, я же попробовал пропустить
перспективы решения физических проблем, о которых рассуждал автор, через критерии Дайсона, один из которых заключался в том, что для получения
действительно новых и интересных результатов не надо особенно слушать теоретиков, которых я заменил более общим словом "снобы". Семинар прошел очень успешно, хотя никакой проверки на этот раз не было. Шалыт
сказал, что именно такие темы и нужно обсуждать на философских семинарах
в Физтехе, а Борис Петрович заметил, что "снобизм идет у нас из Москвы!".

Официозной общественно - политической
деятельности я старался избегать, а вместо этого интересовался
изучением языков. В Физтехе я окончил прекрасные двухгодичные курсы
разговорного английского, но с практикой было у нас тогда плоховато:
самих нас вообще никуда не пускали, со случайными иностранцами общаться
было нельзя, а официальные заграничные гости в лаборатории бывали
нечасто. Я старался не пропускать ни одной возможности общения, став
вместо Д.Машовца уполномоченным нашего Иностранного отдела. Очень
удачным оказался недельный визит в нашу лабораторию Урсулы
Штайгенбергер (что в переводе на русский означает Скалолазка), нашей коллеги из ФРГ.
Выяснилось, что она неплохо знает не только немецкий и английский, но
также и французский, который она, будучи еще студенткой изучала во
Франции, где во время каникул работала гувернанткой у трехлетнего
мальчика: она учила его немецкому, а он ее французскому. Мне захотелось
так же овладеть основными европейскими языками. Такую возможность нам
давала наша кафедра Иностранных языков, но практики в немецком и
французском было бы еще меньше, чем в английском, а без практики любой
язык забывается очень быстро.
Как раз в это время в Доме Ученых в Лесном, директором
которого был тогда Анатолий Константинов, открылись курсы запретного
при Сталине языка "Эсперанто", который построен на основе европейских
языков, я решил узнать, что же это такое. Когда я окончил курсы и
сдавал экзамен своему коллеге В.Громову, у меня родился сын. Поэтому
мне легко вычислять свой Эсперанто-возраст, поскольку он равен возрасту
моего сына. Для того, чтобы уйти от всевидящего ока
сотрудников Дома Дружбы, являвшегося фактически филиалом Большого Дома,
Громов решил на основе этих курсов создать Эсперанто-клуб, предложив
мне стать его Президентом. Поскольку я пел, играл на гитаре, то мне
вскоре удалось найти и новое интересное приложение для этого языка: я
перевел на него тексты многих
произведений нашего хорового репертуара, привлек в наш хор Громова и
других эсперантистов, и мы начали с этой программой
ездить сначала по Союзу: в Ростов на Дону и Латвию (1985), Эстонию (1985,
1988), Волгоград и
Литву (1986, 1992), а затем и за рубеж. Первой зарубежной поездкой
была,
как тогда полагалось, поездка в Болгарию (1987).
Первые впечатления всегда самые яркие, поэтому их я отразил в шутливом
сценарии супер-рок-оперы «Перербуржец
за Дунаем».
Далее последовали наши поездки в Венгрию и Польшу (1988),
Великобританию и Италию (1990), Германию (1990, 1991), Францию и США
(1991), Швецию (1992, 1993, 1999), а также Финляндию (1993, 1995, 1999,
2002).
В первый год правления М.С.Горбачева в Москве должен был проходить очередной Фестиваль молодежи и студентов. Было известно, что туда должны
приехать эсперантисты, и начали готовиться к тому, чтобы там выступить. Однако, дело осложнилось тем, что наша худрук неожиданно попала в больницу. Я предложил
тогда подготовить небольшую программу нам самим в стиле многоголосия под гитару,
а в качестве руководителя пригласил свою хорошую знакомую по университетскому
хору Таню К. 
Мы с успехом выступили в Доме Ученых в Лесном и начали готовиться к поездке в Москву. Однако, тут выяснилось, что на время Фестиваля Москву решили закрыть. Без особого
разрешения туда не продавались билеты, а тех, кто туда все же проникал, могли отловить на улице и выслать обратно. Мы рассматривали вопрос о том, чтобы добраться туда на
электричках, но перед отъездом я решил позвонить Эсперанто-руководству Московского ССОДа, с которым у нас были предварительные договоренности. На этот раз мне уже не очень
советовали
ехать, а утром меня разбудил звонок из нашего отделения ССОД, и мне уже
настоятельно не рекомендовали никуда ехать. Через некоторое время мне позвонил замдиректора
Дома Ученых в Лесном и тоже настоятельно не советовал никуда ехать. Я сказал
ему, что в такой ситуации мы решили и сами никуда не ехать, но через 5 минут он
опять позвонил, видимо связавшись с кем-то, и сказал, что мы приняли правильное
решение, но нет ли кого-нибудь, кто его еще не принял? Я заверил его в том, что
все останутся дома, и все они от меня отстали, поскольку не знали о том, что двое
членов нашего коллектива, Генриета Бондарева и Марина Аксенова, должны были приехать в Москву с Байкала, где они были так же на
Эсперанто-мероприятии.
У них все прошло успешно, они побывали на всех Эсперанто-встречах и в Москве, но без нас не выступали.
Как мы узнали позже, в том общежитии, где мы должны
были остановиться, ночью был обыск - искали эсперантистов, причем милиционеры, пришедшие нас искать,
видимо впервые услышали это слово. Той же осенью старейшая на тот момент наша эсперантистка
Варвара Цветкова рассказывала, что
к ней пришли люди из КГБ чтобы учиться Эсперанто. Видимо там решили восполнить пробел и закрыть,
наконец,
эту зияющую брешь.
Реальная возможность принять участие в публичной политике
появилась у нас лишь в годы горбачевской перестройки, и эту возможность
я воспринял как шанс что-то изменить к лучшему в нашей стране. В
Физтехе того времени реформаторские настроения были очень сильны.
Сначала там возникла Группы поддержки перестройки, которая стала затем
ячейкой Народного Фронта. В 1988 г., когда трудовые коллективы получили
возможность выдвигать кандидатов в депутаты парламента, наблюдалось
заметное противостояние дирекции и коллектива Института: коллектив
хотел выдвинуть А.Д.Сахарова, но у дирекции была своя везде
согласованная и проверенная партийная кандидатура. Поскольку все
завлабы были тогда обязательно членами партии, то все они поддерживали
дирекцию, но вскоре в день похорон Андрея Дмитриевича многие из них
лили слезы и произносили хвалебные речи в его адрес. Примерно в это
время родилась идея создания неподконтрольной партийной номенклатуре
общественной организации Союз Ученых, которая могла бы выдвигать своих
кандидатов.
Тогда то и я решил реализовать свою тягу к политической
публицистике. Вначале я опубликовал статью "К дискуссии о сталинизме" в
самиздатовском журнале "Меркурий" у Елены Зелинской. Ей меня
представила Доня Брандман, с которой я познакомился на одной из
вечеринок, где я выступал в качестве барда. Затем я обратился к теме
политической истории своего Института, начав в институтской
многотиражке "Вестник Физтеха" публикацию собранных мной материалов о
судьбах сотрудников ФТИ, подвергавшимся репрессиям за время его
существования. Вскоре выяснилось, что один из них, Михаил Казачков,
осужденный
в 1975 г. на 15 лет за “шпионаж” и получивший в пермском лагере 3 года
дополнительно, все еще остается в заключении. Было решено организовать
Комитет его защиты. Я же постарался, как мог, провести независимое
расследование его дела, используя хранившееся в архиве Института его
личное дело и встречаясь с теми, кто лично его знал.
На основании моей статьи в Физтехе и Политехе
было собрано немало подписей в поддержку пересмотра его дела. Эти
материалы я передал затем Белле Курковой, а она показывала их
А.А.Собчаку, но потом они вернули их мне обратно. Как я потом понял,
Собчак, видимо, не хотел влезать в опасные и ничего лично ему не
дававшие дела. Долго не публиковала мою статью также и «Смена», одному
из самых прогрессивных корреспондентов которой, Татьяне Зазориной, я ее
и передал. Пришлось отдать все материалы с подписями наших сотрудников
помощникам депутата Союза Ю.Ю.Болдыреву, который, видимо, куда-то там в
Москве их все-таки отдал. Этим делом занялась затем наша Комиссия по
правам человека: Д.Н.Запольский ездил к Казачкову в пермский лагерь, а
Р.В.Пясковский по моим материалам написал нашу совместную статью для
«Часа Пик». Летом 1990 г. вышла, наконец, и моя статья в «Смене», а
затем там же была напечатана отповедь нам с Пясковским со стороны КГБ,
но после непродолжительной перепалки Казачкова все-таки освободили. В
Физтехе его принял директор Ж.И.Алферов, а затем в Актовом зале была устроена
встреча с сотрудниками, где телевидение сняло для «пятого колеса» сюжет
«Снова в Физтех через 15
лет заключения».
© В.В.Косарев,
2005-2006
|
